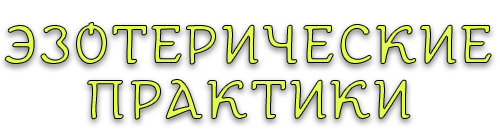Кто такие "предки"?..(отрывок из книги "Лоскутки")

Кто такие «предки»?.. На самом деле, это понятие очень от нас далёкое. Предки — это люди, которых мы не знаем, и образ жизни которых нам известен не вполне. Даже трудно себе представить ту жизнь, которой жили эти самые предки. И много ли общего у нас с ними, строго говоря?
Я пыталась вообразить себе юность моих бабушек. Ведь бабушек-то своих я знала, я прожила с ними большую и очень значительную часть своей жизни. Отчасти я могла бы считать их своими современницами, как я сейчас — отчасти — современница моих внучатых племянников.
Итак; в дни юности моих бабушек не было:
Телефона; радио (я уж не говорю о телевизоре); электричества; магнитофона; не было даже проигрывателя. В городах не было электрических фонарей. Были газовые — в больших городах. Не было машин. Не ходили трамваи (вместо них ходили конки), автобусы и троллейбусы. Не было метро.
Не летали самолёты. Электричек и даже тепловозов тоже не было, а были паровозы. По морям ходили не теплоходы, а пароходы. Не в диковинку были и парусники.
Люди ездили на лошадях. В каретах, в экипажах, на дрожках, на телегах. Кто мог себе это позволить, те держали верховых лошадей. Телеграф был кое-где, но не везде… Ой, я, кажется, соврала: у богатых людей уже, кажется, были телефоны, но не такие, как у нас. Автоматической телефонной связи ещё не было. Телефонисток называли «барышнями».
В деревнях не было ни тракторов, ни, тем более, комбайнов. Пахали на лошадях, а в иных местах на волах или быках. Работали водяные или ветряные мельницы.
Отопление в домах было печное. Только. Топили дровами. Не было газовых плит, не было и электрических плиток. Еду так и готовили — на печке. Даже летом.
Ставили самовар и раздували его сапогом. Утюги тоже были на углях. А кое-где в деревнях бельё гладили с помощью такой деревянной штуки, которая называется «рубцом». Ложки, вилки, ножи чистили кирпичом. Ни о каких стиральных порошках и чистящих средствах люди не знали: их ещё не выдумали. Стирали в корыте, пользовались стиральной доской и находили, что это прекрасное техническое приспособление. Полоскали бельё в реке, в пруду и тому подобное.
Кстати, о стирке. Ещё моя мама помнила, как в деревнях стирали в «жлоде». Это была такая бочка без дна, она ставилась на солому, в неё наливалась вода с золой… кажется, как-то так; но точно я мамин рассказ не помню. Давно был этот разговор… Надо бы поискать в толковом словаре слово «жлода»...
Н-да, это о стирке. А что носили?
Носили длинные платья. Юбка, доходящая до щиколоток, считалась короткой. Колготок в то время ещё не изобрели; чулки удерживались подвязками. В деревнях женщины носили сарафаны. Надевали повойники, платки и т. д.: простоволосыми не ходили. А о том, чтобы брюки надеть, едва ли могли и помыслить. Дамы, ездившие верхом, надевали специальный костюм для верховой езды.
Не было шариковых ручек. Не было ещё даже авторучек. В кабинетах на столах стояли чернильные приборы, некоторые из них — настоящие произведения искусства.
Едва научившегося лепетать малыша учили молиться, поститься — в каждой конфессии на свой лад.
В те времена ещё существовали бродячие артисты; ходили по дворам шарманщики с обезьянкой или каким-нибудь другим прирученным зверьком; ослики и лошадки возили по городам фургончики передвижного цирка.
Чистая вода была совершенно обычным явлением. В реках водилось множество всякой рыбы, в морях и озёрах тоже. Никакой Красной книги не существовало. О радиации и пестицидах никто не слыхивал.
Не было зажигалок. Спички уже были. Дома освещались свечами и керосиновыми лампами. Для свеч делали подсвечники и канделябры — подставки для нескольких свеч; переносные люстры, так сказать...
Да, а ведь газовые фонари не включали. Их зажигали и гасили, и вообще следили за ними фонарщики — была такая профессия. Трубочисты — это тоже была профессия: отопление-то, я уже сказала, печное было.
Холодильников не знали, а сохраняли всё в погребах, в подвалах. В городах бельё сушили на чердаках, но это в центре; на окраинах и в «глубинке» — прямо на улице.
Дети учились в гимназиях, в реальных и коммерческих училищах, в церковно-приходских школах. В гимназию принимали после экзамена; а до того детей учили дома. Детских садов и яслей не было.
Дрова и жильё стоили дороже, чем еда и одежда.
Заключённым было принято подавать милостыню.
В хороших домах давали балы. Некоторые дамы курили, вставляя папиросу в длинный мундштук; но это было довольно редко. Чаще (но тоже далеко не все) нюхали табак. Мужчины же курили почти все, если им не запрещала религия (например, староверам).
Кино не было; кино появилось уже при наших родителях. Фотоаппараты и, соответственно, фотографы уже существовали; но фотоаппараты — это была штука громоздкая и довольно дорогая.
Не существовало полиэтиленовых кульков: и самого-то полиэтилена ещё не изобрели.
На стенах в кабинетах висели отрывные календари, а где-нибудь в гостиной или спальне — ходики с маятником и подвесными гирьками. Ручные часы стоили ужасно дорого. Мотоциклов не водилось. Велосипеды только-только начинали распространяться. На пляже в купальных костюмах ходили не только дамы, но и мужчины; купаться в плавках было бы неприличным.
Компьютерных игр, как и самих компьютеров, не существовало даже в воображении. Дети играли в лапту, в бабки, в городки; ну, естественно — в прятки, в жмурки, в горелки, в фанты… Из тихих игр очень принято было лото...
И живя такой жизнью, мои бабушки даже не подозревали, какая она ненормальная! Они не чувствовали недостатка даже в таких простых и необходимых вещах, как электрическая лампочка или газовая плита, они обходились без холодильника и стиральной машины, и понятия не имели, что такое «такси» и что такси можно вызвать по телефону!.. И всё потому, что даже не догадывались о самой возможности существования чего-нибудь подобного.
И вот что мне вспоминается.
В один прекрасный весенний день я вскапывала клумбу для цветов. Дело было в Геленджике, и дело было в апреле. Светило очень яркое солнце, пели скворцы, чирикали воробьи, в глубине двора роняла лепестки отцветающая слива. Жирная чёрная земля очень сильно пахла, когда я переворачивала её лопатой и разбивала комья. В свежих грудках земли розовели и желтели всякие корешки, шевелились дождевые черви. А южный ветер доносил ещё другие, морские запахи; и я изо всех сил старалась не думать о геометрии, потому что урока по геометрии я не сделала и, честно говоря, делать не собиралась: я терпеть не могла геометрии...
И вдруг на веранду вышла бабця ( не вышла — выскочила) и закричала, просто-таки закричала: " Наташа! Наташа! Иди скорее слушать радио! Он полетел!"
Я ничего не поняла, кто полетел, куда полетел, но бросила лопату и побежала в дом. А в доме по радио говорил великий диктор Левитан. Он говорил о полёте в космос первого космонавта. Это был Юрий Гагарин. Он полетел в космос!..
Я, конечно, сильно обрадовалась. Я просто возликовала. И вдруг смотрю, а бабця плачет. «Да что ж ты, бабця! Что ты плачешь — радоваться надо!» — " Это я так радуюсь! — плача, сказала бабушка. — Если б ты знала, Наточка!.. Я ведь помню, как появлялись на улице первые автомобили!.. И вот, дожила: человек полетел в космос!.."
Я тогда так и не поняла, отчего бабушка плакала. А сейчас понимаю.
Если б вы знали, мои дорогие, как изменилась жизнь на моём веку; как много такого, что для вас привычно и само собой разумеется, для меня было когда-то — в первый раз! Ведь я родилась в первой половине двадцатого века — представляете, как давно?..
Впрочем, знаете ли вы, что даже сейчас, в начале двадцать первого века, у нас в России есть деревни, в которые ещё не проведено электричество; и есть, стало быть, дети, а возможно, и молодые люди, которые никогда ещё в жизни не видели света простой электрической лампочки?.
Автор Наталья Ланковская